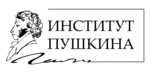Ситуация в области философии, искусства, литературы и социологии, сформировавшаяся на рубеже Х1Х-ХХ веков, была совершенно уникальной. Никогда ни до, ни после не возникало столь тесного взаимодействия между философией, литературой, живописью, музыкой, литературной критикой. Это взаимодействие, а вернее, взаимообогащение, послужило толчком к развитию всех родов искусств, а в России этот процесс завершился “Серебряным веком”. Бурное движение прошло в своем развитии несколько этапов. Одними из главных его составляющих являлись декаданс и символизм, являющие собой яркий пример теснейшего взаимодействия литературы и философии. Попробуем сопоставить различные точки зрения критиков, философов, литераторов на проблемы искусства и, в частности, литературы конца ХIХ - начала ХХ века с целью более глубокого анализа культурной ситуации этого времени.
Декаданс (от франц. decadence - упадок) - упадочные явления (т.е. настроения пассивности и безнадежности) в философии, искусстве и литературе к. Х1Х - нач. ХХ века в Западной Европе, затронувшие также и русскую культуру этого времени. Сам термин возник во Франции в 80-х годах Х1Х века, тогда же возникло понятие “конец века” (“fin de siecle”). Оно означало не просто конец Х!Х века, а конец надежд, утрату идеалов.(1)
В Европе ХIХ веке долго были живы идеалы, провозглашенные Французской революцией, - свободы, равенства, братства. Они были вновь подхвачены в середине века - в 1848 году, когда по ряду стран (Франции, Италии, Германии, Австрии, Венгрии) прокатилась волна революций. Однако после поражения революций 1848 года и утверждения господства буржуазии и особенно с наступлением эпохи империализма вера в идеалы буржуазной демократии постепенно рушилась.
Настроения декаданса и были отражением разочарования и безверия большой части интеллигенции, отказа её от общественной борьбы. В искусстве и литературе эти настроения находили выражение в разных формах. Это и проповедь “чистого искусства”, “искусства для искусства”, и отчуждение, стремление замкнуться в узком мире своих переживаний.
Я ненавижу человечество,
Я от него бегу спеша.
Мое единое отечество -
Моя пустынная душа, -
писал Константин Бальмонт, провозглашая идеал человека-художника, свободного от мнения толпы.
Декадентские настроения захватили писателей разных литературных направлений конца ХIХ века: натуралистов, символистов и даже некоторых реалистов. Декаденты рассматривали индивидуализм и эстетство как своего рода бунт против бесчеловечного буржуазного общества, глубоко враждебного человеку, красоте, искусству. Они провозглашали себя носителями новой морали, нового жизненного стиля, получившего название “модерн” (“современный”), претендуя тем самым на то, чтобы наиболее полно отражать духовные интересы своего времени. Особенно широкое влияние декадентская литература и критика приобрели в эпоху столыпинской реакции 1907-1910 гг., когда поворот либеральной буржуазии к союзу с самодержавием, растерянность и разброд в рядах мелкобуржуазной интеллигенции создают благоприятную почву для распространения идеализма и мистики. В то же время к периоду 1907-1910 гг. Относится начало разложения символизма, о кризисе которого все более открыто говорят участники движения.
Символизм (от греч. symbolon - условный знак) - одно из самых сильных литературно-философских течений конца Х1Х - начала ХХ века. Зародившийся во Франции в 70-80 гг. Х1Х века в творчестве Поля Верлена и Артюра Рембо, символизм вскоре пустил мощные корни в России. Его проповедниками в 1890 - 1900-е годы стали В. Соловьев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт, В. Брюсов, Ф. Сологуб, позже в русле символизма выступили А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов, С. Городецкий. Символистская поэзия и критика отразили глубокий кризис буржуазной мысли, вызванный вступлением России в империалистическую эпоху, нарастанием в стране пролетарского движения. Успех символистов был связан с разочарованием широких слоев буржуазной интеллигенции в позитивизме, в либеральных и народнических идеалах. Непосредственным выражением социально-политической и эстетической программы символизма была борьба против идей реализма, проповедь идеалистического “чистого” искусства.
Символизм очень скоро проник во все сферы искусства: поэзию, живопись, музыку... Существовало большое количество печатных органов, в которых сотрудничали философы и литераторы: сборник “Вехи”(там печатали свои работы Н. Бердяев (“Философская истина и интеллигентская правда”), С. Булгаков (“Героизм и подвижничество”), М. Гершензон (“Творческое самосознание”) и т.д.), символистские журналы “Мир искусства”, “Новый путь”, “Весы”.
Для понимания идейно-философского генезиса символизма важное значение имеют работы В. Соловьева “Кризис западной философии”(1874 г.), “Красота в природе”(1889 г.), “Общий смысл искусства” (1890 г.) и др., а также книга Д. Мережковского “О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы”(1893 г.), сборники критических статей А. Белого под названиями “Символизм”, “Арабески”, “Луг зеленый”(1910 и 1911 гг.), статьи Вяч. Иванова “По звёздам” (1909 г.), “Борозды и межи” (1916 г.), курс лекций “Эллинская религия страдающего бога” (1904 г.). Чрезвычайно важны статьи В. Брюсова и А. Блока, отразившие идейные искания этих поэтов и их последующий разрыв с символизмом.
Заявившая о себе в 90-е годы декадентская критика в лице А. Волынского, Д. Мережковского, В. Розанова выступила под флагом борьбы с “грубым материализмом”, с “позитивизмом” и естественнонаучным мировоззрением. В своем развитии идеи символистской критики прошли два главных этапа. До революции 1905 года идеи большей части символистов носили ярко выраженную индивидуалистическую окраску, после же 1905 года проповедь индивидуализма сменяется у многих символистов проповедью мистической “соборности”. В эти годы усиливается их интерес к идеям славянофилов, к религии, к сектантству и даже к народному творчеству в религиозно-мистическом восприятии.
Символисты опирались на философию Канта, Беркли, Фихте, Штейнера, а в особенности на Шопенгауэра (“Мир как воля и представление”) и Ницше (“Так говорил Заратустра”). Именно используя формулы Шопенгауэра, символисты развивали свое учение об онтологическом значении искусства, о его роли в обновлении мира. Они проповедовали пренебрежительное отношение к вкусам “толпы”. От Ницше к ним перешли идеи о решающей роли в истории “сверхчеловека”. Для подкрепления своих положений символисты эклектически использовали “Письма об эстетическом воспитании” Шиллера, теорию Дидро о гражданском воспитании при помощи театра, в особенности учение Шеллинга о бессознательности творчества поэта-провидца, несущего на себе отблеск животворящей “абсолютной мировой идеи”. Однако все эти идеи не брались слепо на веру, а творчески преосмысливались, дополнялись, иногда критиковались. Так, например, В. Соловьев чувствовал скрытую угрозу во влиянии идеи “сверхчеловека” Ницше. По воспоминаниям А. Белого, философ говорил ему, что “идеи Ницше - это единственное, с чем надо считаться как с глубокой опасностью, грозящей религиозной культуре”(2).
Философские основания литературной теории символизма резко отличались от традиционного для русской демократической критики Х1Х века материализма (всех его разновидностей: антропологического, естественнонаучного). Символисты отказывались и от диалектики, разработанной Белинским, Герценом, Чернышевским, довольно враждебно были настроены к марксизму. “Наметившееся еще у народников сползание к философскому субъективизму у символистов получило полное завершение. Символисты-теоретики, перерабатывая положения различных идеалистических философских систем, строили свои концепции. Некоторые понятия, принятые у символистов, вошли в широкий оборот: “теократия”, “теургия”, “соборное искусство”, “эмблематика смысла”, “литургический язык”...”(3).
За внешним стремлением эпатировать публику, поразить её экзотичностью не то чтобы образов, а больше строк и выражений скрывалось другое - неприятие мира, унылого бытия, мещанского благополучия, вялого либерализма. Это был своеобразный протест против условий жизни, гнетущих человека, душащих и уродующих его. Символисты восставали против предметных понятий, рожденных в практике, их привлекало “химерическое содержание”, язык магов, жрецов и волхвов. Такой подход к речи дал мощный толчок развитию новых языковых форм, поискам в области звукописи, ритмики стиха. А. Белый определял цель поэзии как “творчество языка”. В своей статье “Магия слов” он писал: ”Кажущееся неразвитому уху нелепым упражнение духа в звуковом сочетании слов имеет огромное значение; созданием слов, наименованием неизвестных нам явлений, звуками мы покоряем, зачаровываем эти явления, вся жизнь держится на живой силе речи... Живая речь - вечно текущая, создающая деятельность... и потому то единственное, на что обязывает нас наша жизненность, - это творчество слов; мы должны упражнять свою силу в сочетаниях слов”(4). А. Белому вторит К. Бальмонт: “Если вся мировая жизнь есть непостижимое чудо, возникшее силою творческого слова из небытия, наше человеческое слово, которым мы меряем Вселенную и царим над стихиями, есть самое волшебное чудо из всего, что есть ценного в нашей человеческой жизни” (5). Свобода образов и красок, свобода слов и звуков, свобода творческого полета - вот что провозглашалось и ценилось приверженцами символизма.
Как же символисты представляли себе свое место среди различных литературных течений и направлений? Всю историю мировой литературы они рассматривали лишь как прелюдию к символизму. Даже в 1910 году А. Блок заявлял: ”Солнце наивного реализма закатилось; осмыслить что бы то ни было вне символизма нельзя” (6). Символисты возражали против того, чтобы их называли декадентами. Слово ”декадент” казалось им бранным, канувшим в прошлое. Они сами себя считали оптимистами, ликвидаторами застоя и пессимизма в общественном мировоззрении и литературе, порожденных реакцией 80-х годов. В. Брюсов в статье “Ключи тайн” (1904 г.) писал, имея в виду свободу творчества: “Романтизм, реализм и символизм - это три стадии в борьбе художника за свободу”. Таким образом, символизм назывался третьей стадией истории русской и всякой другой литературы. Некоторые символисты толковали эту “триаду” как возврат к неоромантизму. Брюсов опирался в своей эстетике на немецких романтиков и французских символистов. Вяч. Иванов свою теорию драмы, культ Диониса заимствовал через Ницше у немецких романтиков. Учение об “иронической” стилизации, игре различными планами в искусстве символисты заимствовали у Ф. Шлегеля. Если формула романтизма хорошо выражается стихом Лермонтова “В уме своём я создал мир иной и образов иных существованье”, то у символистов мы найдем её продолжение: Ф. Сологуб говорил, что “весь мир - одно моё убранство” (“Мои следы”). Романтический эгоцентризм Брюсов выражал так: “Создал я в тайных мечтах мир идеальной природы...” Программным же можно признать стихотворение религиозного философа В. Соловьева, развившего идеи Платона и Гегеля в учение о всеединстве и ставшего духовным наставником символистов:
Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами -
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий -
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на белом свете -
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?
(1892 год)
Новые течения в философии, литературе, искусстве породили в среде интеллигенции множество споров: одни приветствовали новейшие веяния, другие их яростно не принимали. К числу тех, кто видел в модернизме положительные стороны, можно причислить многих замечательных людей того времени. Приведем несколько точек зрения.
Семен Афанасьевич Венгеров (1855-1920 гг.) - критик, историк литературы и выдающийся библиограф связывал уход модернистов от социальных проблем и обращение их к вечным вопросам с героическими традициями русской литературы; так, по его мнению, модернисты Сологуб, Белый, Иванов и Бальмонт своим творчеством уводят человека от обывательщины. Венгеров писал: “Пусть модернизм и не зовет прямо к подвигу, как та литература, которая создалась на непосредственном усвоении советов Белинского. Всё равно - он создает героическую атмосферу в смысле полного презрения к мещанскому счастью” (7). В своих очерках Венгеров решительно выступил против “перенесения марксистской теории борьбы классов в историю русской литературы”(8). В противовес русским марксистам, он доказывал, что вся русская литература характеризуется одним чувством отвлеченной гражданственности, стремлением к правде, которые присущи демократам и либералам, реалистам и представителям модернистских течений. Более того, признавая различие между “общественником и марксистом” Горьким и “индивидуалистом и символистом” Бальмонтом, Венгеров все же пытался отыскать в них и некое “психологическое единство” и подвести всю русскую литературу начала ХХ века под одно внеклассовое понятие “неоромантизма”(9).
Высказывания Горького по поводу модернистских течений в искусстве носят несколько противоречивый характер. Отвергая претензии декадентов на оригинальность и новаторство и заявляя, что рекламируемая ими свобода творчества есть лишь свобода “чудачеств” и “гайдамачества” в искусстве, Горький ставил в один ряд с декадентами-живописцами (Врубелем, Галленом) их собратьев из области поэзии - Гиппиус, Мережковского, Бальмонта, ищущих того, “чего нет на свете”, и стремящихся “за пределы предельного”. Отрицая, что эта “пляска святого Витта в поэзии и живописи” может иметь какое-либо социальное значение, Горький развивал свой взгляд на “педагогическую “ цель искусства. При этом он ссылался на взгляды буржуазных социологов (например, Нордау, к высказываниям которого мы обратимся чуть позже); полностью не разделяя их взглядов, он использует их формулы, переосмысливая их. В статье “Поль Верлен и декаденты” ясно видно, как борются в сознании Горького два далеких друг от друга толкования декаданса. Высоко поднимаясь над народнической критикой декаданса как некоего казуса, как простой нелепости, Горький делает очень глубокие замечания о социальной природе этого явления. Он связывает декаданс с процессом разложения буржуазного общества, отмечая закономерность того факта, что декаданс первоначально возник именно во Франции и именно в 70-е годы, когда “торжество буржуазии и её миросозерцания стало несомненным”. “Декадентское творчество все разрастается, странные, развинченные и развинчивающие нервы сонеты наводняют страницы журналов, говоря о чем-то неясном, туманном и зловещем. Эти песни разлагающейся культуры звучат похоронным звоном зарвавшемуся, нервно истощенному и эгоистическому обществу и всё более истощают его” (10). Но в то же время Горький допускал объяснение декаданса в духе Нордау - как следствие “особенной нервозности” жизни больших городов , как психического заболевания, нуждающегося во вмешательстве медицины, - такого рода суждения не ползволяют назвать его позиции того времени последовательно материалистическими и тем более марксистскими.
Анализируя поэзию Бальмонта и Брюсова, Горький сосредоточивает внимание не на тех сторонах, которые вызывали насмешки в печати, а на попытках просто и искренне выразить определенное настроение: он ставил перед собой задачу “хотя бы до некоторой степени уловить и угадать его”. Горький считает это настроение “неуловимым”, туманным, смутным, однако поучительным именно этой своей “неуловимостью”.
Рассматривая творчество писателей (родоначальников декадентской поэзии), Горький замечает часто звучащие в их творчестве мотивы обращения к Богу, религии и ставит вопрос: ”Насколько серьезно и искренно это, так ясно заметное в последнее время стремление к религиозным мыслям и сюжетам?.. Что это? Искренний ли голод души современного человека, уставшего от безверия, или хитроумная уловка буржуазного общества, которое, будучи обеспокоено все ярче и ярче выступающими из хаоса жизни противоречиями, желает успокоить совесть свою и, облекаясь в мантию фарисеев, ловко прячется от роковой логики событий под покров милосердия Божия?”(11). Не настаивая на отрицательной оценке субъективных намерений Бальмонта и Брюсова, Горький явно склоняется - в оценке объективного смысла выраженного ими настроения - ко второму выводу.
Лев Толстой к декадансу и его изысканиям был враждебно непримирим. По его мнению, и декаденты, и натуралисты, низводя искусство до степени “пустой забавы праздных людей”, насаждали и в литературе, и в живописи, и в театре эротизм и порнографию. В трактате “Что такое искусство?” Толстой подверг критике западноевропейских декадентов. В пору работы над трактатом он надеялся, что декадентство - модная “заморская болезнь” - не привьется на русской почве. Скоро писатель убедился, что у Бодлера, Верлена, Малларме, Метерлинка нашлись и в России почитатели и ученики - Минский и Мережковский, Гиппиус и Белый, Бальмонт и Сологуб. Из писем и дневников Толстого, из мемуаров о нем легко убедиться, что все они резко осуждались писателем. Так, в споре о поэзии, в ответ на утверждение, что у Бальмонта есть “мастерство техники”, он заметил: “Никакого мастерства техники не заметно, а видно, как человек пыжится. А уж когда видишь это, то конец. Вон у Пушкина: его читаешь и видишь, что форма стиха ему не мешает”(12) В письме С. Гаврилову от 14 января 1908 года Толстой довольно категорично заметил: “Ваши рассуждения о Бальмонте... и вообще о стихах мне чужды и не только неинтересны, но и неприятны... Стихотворство есть, на мой взгляд, даже когда оно хорошее, очень глупое суеверие. Когда же оно еще плохое и бессодержательное, как у теперешних стихотворцев, - самое праздное, бесполезное и смешное занятие”.
Ясно, что все утонченные изыскания декадентов у Толстого, твердившего о простоте и доступности искусства, не находят понимания. В дневниковых записях от 20 октября 1896 года читаем следующее: ”Утонченность и сила искусства почти диаметрально противоположны. Идеал всякого искусства, к которому оно должно стремиться, - это общедоступность, а они, особенно теперь музыка, лезут в утонченность”. Ещё более резкая запись от 27 ноября этого же года: “Искусство, становясь все более и более исключительным, удовлетворяя все меньшему и меньшему кружку людей, становясь все более эгоистичным, дошло до безумия, так как сумасшествие есть только дошедший до последней степени эгоизм. Искусство дошло до крайней степени эгоизма и сошло с ума” (13).
Толстой разделял точку зрения Макса Нордау на современное искусство как проявление упаднических настроений “конца века”. “Читал о статье Макса Нордау. Прекрасно говорит о том, что наша беллетристика должна сделаться скоро забавой женщин и детей, как танцы” (14).
Макс Нордау (настоящее имя - Симон Зюдфельд), немец по происхождению, - видный социолог и публицист конца Х1Х века. Его как врача-психотерапевта чрезвычайно занимала сложившаяся в конце века уникальная ситуация в искусстве. Нордау посчитал своим нравственным и врачебным долгом показать несостоятельность новейшего искусства , его явный или скрытый пессимизм (признаки которого - тяга к болезненной мистике, утрата положительного идеала и т.д.). В своих трудах Нордау выступает не только как консерватор, предпочитающий искусство, которое бы развлекало и приносило наслаждение, но и как непримиримый оппонент новых течений в философии и литературе.
Идеи Нордау о вырождении в своё время были хорошо известны в Европе и в России. Он поражал современников откровенность и жестоким морализмом своей медико-исторической философии. Некоторые маститые мыслители (такие как М. Горький, Л. Толстой) разделяли его взгляды, другие (например, А. Чехов) - наоборот. В письме к А. Суворину Чехов писал следующее: “ Рассуждения всякие мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с отвращением”(15). В настоящее время интерес к трудам Нордау возрос . Его книга с характерным названием “Вырождение”(1893 г.) стала не так давно доступна и российскому читателю. Она позволяет ощутить накал страстей, борьбу мнений и мировоззрений конца века.
Социологическое вырождение - по определению философской энциклопедии - явление очень распространенное в человеческой истории. Оно заключается в понижении активности данной группы людей, уровня талантливости и ума, нравственности, физической силы и здоровья и, наконец, самой живучести, следствием чего может явиться вымирание этой вырождающейся (деградирующей) группы. Нордау был крайне обеспокоен сложившейся в обществе ситуацией и пытался повлиять на умы современников с целью остановить нравственное вырождение.
По мнению Нордау, истин и верных объяснений современных исторических явлений в философских системах искать нечего. “Если читать произведения Ницше одно за другим, то с первой до последней страницы получается впечатление, как будто слышишь буйного помешанного, изрыгающего оглушительный поток слов, со сверкающими глазами, дикими жестами и пеной у рта... Система Ницше - собрание бессмысленных положений и фраз, к которым даже нельзя относиться серьёзно, потому что они столь же эфемерны, как кольца дыма, которыми забавляется человек, курящий сигару” (16).
А.П. Чехов, не разделявший этой точки зрения, потому, видимо, и назвал Нордау “свистуном”, что почел эти высказывания несправедливыми (Лев Толстой в своем дневнике сделал следующую пометку: “ Читал “Даму с собачкой” Чехова. Это всё Ницше. Люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло. Прежде робели, искали; теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону, то есть почти животные” (17)).
Нордау обвиняет Ницше в эгоизме, отступлении от моральных норм. “Ницше - исчадие мании противоречия... он обуреваем стремлением постоянно ставить вопросы”. “Ницше страдает сильно развитым садизмом, но он у него ограничивается духовной сферой”. “Примеров мизантропии у него не оберешься”(18).
Говоря о проявлениях “вырождения” в обществе, Нордау замечает, что оно характеризуется душевным бессилием и унынием, “проявляющимся в виде пессимизма, неопределенной боязни людей (как тут ни вспомнить слова Бальмонта о том, что “мир людей - толпа акул”) и всего на свете или отвращения к самому себе... В этом изображении унылого, мрачного, сомневающегося в себе и во всем мире меланхолика, терзаемого опасением неизвестного и видящего вокруг себя разные ужасы, мы узнаем человека fin de siecle. В связи с угнетенным состоянием духа обыкновенно замечается и нерасположение действовать, доходящее иногда до отвращения ко всякого рода деятельности и до полного ослабления воли. Декадентом создается философия отречения, человеконенавистничества, он толкует о том, что он убедился в превосходстве квиентизма, называет себя с гордостью буддистом и в поэтических выражениях прославляет нирвану как высший и самый достойный идеал человеческого духа. Психопаты и помешанные - естественные последователи Шопенгауэра и Гартмана, и им стоит только познакомиться с буддистами, чтобы примкнуть к ним”(19).
Непримирим Нордау и к поискам литераторов в области звукописи, новых рифм и ритмов, а художников - в области цвета. Категорично и безапелляционно приписывает он первым психопатию и неврастению, а вторым - разрушение сетчатки, связанное опять-таки с отклонениями в психике. Объединение философов, писателей и художников конца века в школы, кружки и группы осознается Нордау как лишнее подтверждение собственной теории о вырождении: он уподобляет это объединение разбойничьим шайкам или группировкам неврастеников. В качестве аргумента Нордау приводит следующий довод: “Нормальные художники и писатели с уравновешенным умом никогда не чувствуют потребности соединяться в кружки или кучки, члены которых подчинялись бы определенным эстетическим догматам и защищали бы их с фанатическою нетерпимостью испанских инквизиторов. Художественная деятельность более всякой другой индивидуальна, и потому истинный талант дорожит независимостью... он подчиняется только собственному творчеству, а не теоретической формуле” (20).
К причинам вырождения Макс Нордау относит пребывание в больших городах, отравление алкоголем, табаком и наркотиками, утомление, ускорение темпа жизни, увеличение числа газет и журналов и, как следствие, огромный поток ненужной информации, а также долголетнее депрессивное состояние французов в связи с великими социальными потрясениями в стране. Поневоле приходят на ум параллели с сегодняшним состоянием жизни нашего общества.
В своей книге Нордау пытался дать прогноз относительно будущего человечества. Интересно, что написан он в духе тех самых декадентов, которых Нордау так не любил. Совершенно очевидно, что осознанно или неосознанно символистский круг чтения оказывает влияние не только на его стиль, но и на оценочные утверждения. Это пророчество поражает, с одной стороны, жутким скептицизмом, но с другой - удивительным сходством с тем, что происходило в ХХ веке и происходит в наши дни. “Половая психопатия усилится и распространится... стыдливость и благопристойность сделаются достоянием прошлого... умственное образование будет почти совершенно вытеснено из школ... прежние вероучения почти совсем лишатся последователей... книги выйдут из моды... Было бы нетрудно дополнить эту картину, в которой нет ни одной вымышленной детали, в которой все заимствовано из уголовной и психиатрической литературы и наблюдений над особенностями неврастеников, истеричных и вообще психопатов. До такого состояния дойдет в ближайшем будущем цивилизованное общество, если утомление, нервное истощение и обусловливаемые ими болезни усилятся”(21). Однако, чтобы ободрить своих современников, Нордау далее пишет: “ Дойдет ли до этого дело? Нет, я этого не думаю. Человечество еще не старо. Оно молодо, а для молодости минута переутомления не страшна: силы снова восстановятся” (22)
.
Идеи о соотношении общественной жизни и направлений в искусстве составляют основу рассуждений ещё одного выдающегося критика рубежа веков - Г. В. Плеханова. “Особенности художественного творчества всякой данной эпохи всегда находятся в самой тесной причинной связи с тем общественным настроением, которое в нем выражается”, - писал Плеханов, рассуждая с позиций материалистической критики (23).
В ряде статей Плеханов подверг резкой критике произведения Мережковского, Гиппиус, Философова, Минского и других декадентов. Он настойчиво доказывал, что обстоятельством, определяющим характер их творчества, является полный разрыв с народом, с действительностью. “Склонность художников и людей, живо интересующихся художественным творчеством, к искусству для искусства возникает на почве безнадежного разлада с окружающей их общественной средою”(24) Даже излишняя забота о форме обусловливалась, по мнению Плеханова, “общественно-политическим индифферентизмом”(25).
Для художника-декадента единственной реальностью является его собственное “я”. “А так как его “я”, - иронически замечает Плеханов, - может все-таки соскучиться, не имея другого общества, кроме самого себя”, то художник-декадент “придумывает для него фантастический потусторонний мир, высоко стоящий над землёю и над всеми вечными вопросами”. Рассуждая о вреде “чистого” искусства, Плеханов пишет: “При нынешних общественных условиях искусство для искусства приносит не весьма вкусные плоды. Крайний индивидуализм эпохи буржуазного упадка закрывает от художников все источники истинного вдохновения. Он делает их совершенно слепыми по отношению к тому, что происходит в общественной жизни, и осуждает на бесплодную возню с совершенно бессодержательными личными переживаниями и болезненно фантастическими вымыслами. В окончательном результате такой возни получается нечто, не только не имеющее какого бы то ни было отношения к какой бы то ни было красоте, но и представляющее собой очевидную нелепость, которую можно защищать с помощью софистического искажения идеалистической теории познания”(26).
Однако у Плеханова есть и другая точка зрения на теорию “чистого” искусства. Она связана с его трактовкой искусства как идеологии вообще. Художник выступает в своем творчестве в качестве представителя определенного класса. Отношение между ними - величина, в известном смысле, переменная. В иных случаях художник может вступать в разлад со своим классом или, как выражается Плеханов, “с окружающей его средой”. Этот разлад есть своего рода форма критического отношения художника к классу. Тут Плеханов имеет в виду основополагающие указания Маркса и Энгельса на этот счет. Теория “чистого” искусства, по мысли Плеханова, может означать то, что художник разуверился в правоте своего класса и не хочет больше служить ему своим искусством. Переживая “разлад с окружающей его средой”, художник “уходит от тяжелой действительности” в доступную для него “сферу высших интересов”. Но что же означает эта последняя? Отречение художника от практических интересов борьбы. В итоге получается, что, с одной стороны, буржуазный художник, стоящий на позиции теории “чистого” искусства, подвергает суровой критике нравственность своего собственного класса буржуазии, а с другой - он удаляется в “сферу высших интересов”, т.е. отрешается от всякой реальной борьбы. Так сомкнулись два взгляда Плеханова на теорию “чистого” искусства.
Изложенные выше точки зрения лишний раз подтверждают не только остроту борьбы мнений той эпохи, но и позволяют оценить богатство культуры, то, с какой самоотверженностью каждый художник, творец создавал свой мир, желая улучшить мир в целом. Приведенные критические отзывы составляют лишь малую толику того огромного пласта философских и литературных споров, которые велись в конце ХIХ - начале ХХ века, но и по ним можно судить о накале страстей и о вопросах, волновавших лучшие умы того времени. Каким должно быть искусство - простым, общедоступным или возвышенным? На каких позициях должен стоять художник - материалистических или идеалистических? Должен он служить обществу или стоять от него особняком? Мнения Горького, Толстого, Плеханова как людей, создающих собственную философию, а не только анализирующих чужую, представляют потому особый интерес. Книга же врача и социолога Нордау, на которого ссылались и Горький, и Толстой, ценна как свидетельство очевидца событий в искусстве того времени, хотя и написана с излишней долей субъективизма.
ПРИМЕЧАНИЯ.
- Краткий словарь литературоведческих терминов. - М., Просвещение, 1985г., с. 32.
- Энциклопедия “Русская литература”, часть 2. - М., Аванта +, с. 13.
- Кулешов В. “История русской критики”. М., Просвещение, 1991, с. 425.
- Белый А. “Магия слов” в кн. ”Символизм как миропонимание”. - М., 1994 г., с. 135.
- Бальмонт К. “Поэзия как волшебство” - М., 1922 г., с. 61.
- Блок А. Собр. соч. в 5 тт., М.-Л., 1962 г., с. 433.
- Венгеров С. ”Героический характер русской литературы”. Собр. соч., 1т, СПб, 1911г., с. 197.
- Там же, с. 104.
- Венгеров С. “Этапы неоромантического движения” в кн. “Русская литература ХХ века”, 1 т. - М., 1914 г., с. 24-25.
- Горький М. “Поль Верлен и декаденты” в кн. “Теория литературы”, сост. Л. Осьмакова. - М., Просвещение, 1982 г., с. 436.
- Горький М. “Несобранные литературно-критические статьи”, там же, с. 43.
- “Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников”, - М., 1955 г., 2 т., с. 219-220.
- Толстой Л. Дневники. // “Что такое искусство?”, - М., Современник, 1985 г., с. 525.
- Там же, с. 520.
- Чехов А. П. Письма.// Полн. Собр. соч., М., 1977 г., 5 т., С. 284.
- Нордау М. “Вырождение”.- М., Республика, 1995 г., с. 258-259.
- Толстой Л. Дневники. (см. п. 13), с. 528.
- Нордау М. “Вырождение”. - М., 1995 г., с. 276-277.
- Там же, с. 36.
- Там же, с. 41.
- Там же, с. 315.
- Там же.
- Плеханов Г. “Искусство и литература”. - М., 1948 г., с. 212.
- Плеханов Г. “Искусство и общественная жизнь”. Хрестоматия по теории литературы. - М., Просвещение, 1982 г., с. 413.
- Там же, с. 416.
- Там же, с. 419.