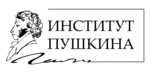Еще будучи лицеистом, Пушкин в своем стихотворении «Городок» без ложного пиетета адресовал баснописцу Лафонтену несколько эпитетов, да еще и назвал его на русский манер, подчеркивая тем самым, очевидно, некую ментальную родственность:
И ты, певец любезный,
Поэзией прелестной
Сердца привлёкший в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!
«Поэзия прелестная» проявлялась в баснях богатством языка, наблюдательностью, меткостью определений, кроме того, образностью поэтических вступлений, умением точно передавать характеры и чувства – всё это делало творчество Лафонтена особенно притягательным и оригинальным.
Парадокс: морализаторство у юных не в чести (а что за басня без морали!), так что же нравилось лицеистам у Лафонтена? Исследователи отмечают своеобразие его дидактизма: он не стремился обличать пороки, а без лишней сентиментальности описывал характеры и события, отдавая предпочтение тем героям, которые умеют извлечь урок из предлагаемых обстоятельств. Вот две козы в одноименной басне поспорили, кто кому должен уступить дорогу на узком мостике, да не сошлись во мнениях и обе разбились о камни. Концовка звучит поучительно:
Пустая, право, честь
Вперед идти иль выше сесть.
Что до меня, так я, ей-Богу,
Дам всякому скоту дорогу.
Признаться, я ведь трус:
Скотов и женщин злых особенно боюсь.
У Лафонтена таких наблюдений много. Часто его герои имеют совершенно определенный социальный статус, что делает изображаемые характеры еще более реалистичными. Например, упомянутые выше козы – «штаб-лекарша» и «исправница».
Знаменитая басня «Стрекоза и Муравей» в переводе Крылова утратила социальную остроту, свойственную лафонтеновскому оригиналу. У французского баснописца диалог ведут две дамы: Цикада и Муравьиха. Причем Цикада не просит её «прокормить и обогреть», а ходатайствует о займе, гарантируя к определенному сроку не только выплату, но и проценты. Однако скупая Муравьиха одалживать не любит. Эта басня в свое время заслужила осуждение Руссо, который посчитал ее «учащей детей жестокости». Руссо и Ламартин полагали, что басни Лафонтена приучают детей к мысли о неизбежности пороков и безжалостности мира. Василий Андреевич Жуковский, будучи переводчиком Лафонтена, тоже категорично заявлял: «Не ищите в баснях его морали – её нет!». Но всё же мораль у лафонтеновских произведений есть, и похожа она на выводы умудренного жизнью человека, проповедующего невозмутимое отношения к жизни.
Лафонтена в России переводили многие, но самыми популярными стали талантливые интерпретации Ивана Андреевича Крылова. Творческое восхождение этого баснописца началось с перевода двух басен Лафонтена: «Дуб и трость» и «Разборчивая невеста». Именно его перу принадлежат все удачные адаптации лафонтеновских текстов для русских читателей.
Н. В. Гоголь так писал о феномене Крылова: «...Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную, как вещь старую, негодную для употребленья и почти детскую игрушку - и в сей басне умел сделаться народным поэтом».
Однако у современников труды Крылова вызывали немало вопросов. Самым известным литературным оппонентом баснописца был П.А. Вяземский, усматривающий в поэтических переложениях Крылова немало вредных мыслей. Выдающийся русский филолог Сергей Аверинцев в своей статье «Лафонтеновская парадигма и русский спор о басне: Вяземский versus Крылов» пишет об интересном диалоге, в котором иронично-снисходительному отношению к басням Крылова со стороны Пушкина противопоставлено негодующе-обличительное мнение Вяземского. У Пушкина: «"Некто справедливо заметил, что простодушие (naivete, bonhomie) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться: Лафонтен и Крылов - представители духа обоих народов". Вяземский, возражая Пушкину в письме, настаивал на том, что Крылов передает наиболее одиозные черты русского национального характера - "лукавство, брань из-за угла...": "Может быть, и тут есть черты народные, но, но крайней мере, не нам признаваться в них и не нам ими хвастаться перед иностранцами"; он доходит даже до неологизма: "преступление de lezenation". Очень характерен ответ Пушкина в ноябрьском письме 1825 г. из Михайловского: "Ты уморительно критикуешь Крылова; молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума. Я назвал его представителем духа русского народа - не ручаюсь, чтобы дух этот отчасти не вонял. - В старину народ наш назывался смерд (см. господина Карамзина). Дело в том, что Крылов преоригинальная туша, (...) а мы разини и пр. и пр."
Не занимаясь анализом всех смысловых акцентов этого острого пассажа, укажем на один момент, значение которого шире, чем вопрос о национальных признаках крыловских персонажей: Пушкин, собственно, признает - "молчи, то знаю я сама" - то отступление от моральных, интеллектуальных и поэтических норм старой парадигмы, которое так шокирует в крыловских баснях Вяземского, но оценивает именно его не отрицательно, а положительно, заявляя свою с ним солидарность - "эта крыса мне кума". <…> О национальном couleur local, характеризующем крыловских животных, очень много сказано уже современниками. Пресловутый Греч … сумел предвосхитить многое, что с тех пор варьировалось на разные лады, сказав в своей статье в "Сыне отечества" 1825, № 3: "В баснях Крылова мы видим русскую курицу, русского ворона, медведя, соловья и т. п."»*.
Сопоставляя подходы Крылова и Лафонтена к формулировке моральных выводов, С. Аверинцев пишет о нетривиальности французского баснописца и о виртуозности его moralite. Так, из уст Лиса, выманившего сыр у падкого на лесть Ворона, мы слышим поученье: «Сударь мой, знайте, что всякий льстец живет за счет того, кто его слушает. Этот урок, несомненно, стоит сыра». «Лафонтен делал усилия, чтобы вывести мораль из порочного круга банальностей: Крылов не без ехидства тематизирует именно момент банальности, избитости ("Уж сколько раз твердили миру, / Что лесть гнусна, вредна...")»*.
Лафонтен добивается правдоподобия повествования. Об упомянутой выше басне «Стрекоза и Муравей» (в оригинале противопоставлены Цикада и Муравьиха) С. Аверинцев пишет: «Цикада у Лафонтена высказывала деловую и конкретную просьбу о займе, гарантируя выплату долга и процентов. Стрекоза у Крылова просит: "Накорми и обогрей"; что же, она хочет попасть в приживалки, или уж прямо в содержанки? Вопрос обострен присутствием gender: у Лафонтена разговаривают две дамы, бесхозяйственная и хозяйственная, что делает просьбу социально пристойной, а насмешливый отказ менее чудовищным. У Крылова дама приходит к господину, и просьба "накорми и обогрей" звучит прямо-таки рискованно, а отказ монструозен. <…> У Лафонтена животные и не должны быть чересчур животными, потому что иначе нарушилась бы занимающая французский esprit умственная игра с надеванием и сниманием звериных масок и соответственно сокрытием и обнажением человеческих социальных отношений и конвенций»*.
Биографы отмечают, что в большую литературу Лафонтен вошел в 1654 г. (в возрасте тридцати трех лет) как создатель произведений самых разных литературных жанров: мадригалов, баллад, од, посланий, пьес, эклог. Лишь через четырнадцать лет он впервые выступил в амплуа баснописца, принесшем ему мировую славу: в 1668 году было опубликовано первое издание «Басен Эзопа, переложенных на стихи г-ном де Лафонтеном», состоявшее из шести книг. Второе издание, вышедшее в 1678 г., было уже в 11 томах, а опубликованное в 1694 г. последнее издание - в 12 книгах.
Опираясь на наследие античных авторов, используя их внешние фабулы, Жан де Лафонтен выступил по сути создателем нового жанра и вошел в историю. Басни не только сделали Лафонтена одним из великих национальных поэтов, но и обеспечили ему достойное место в литературе других стран, в российской так уж точно.
*С. Аверинцев «Связь времен», с. 199-219.