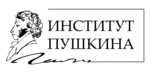Из-под бойкого пера Аполлона Григорьева вышло немало критических статей, стихотворений, переводов, очерков, заметок о русском театре и общественной жизни... Разносторонние таланты сделали его заметной фигурой в литературе XIX века. Но судьбу его счастливой не назовешь.

Аполлон Григорьев. Изображение: kilinson.com
«Воскормило меня, возлелеяло Замоскворечье»
Автобиографическое повествование «Мои литературные и нравственные скитальчества» Аполлон Григорьев предваряет посвящением близкому по духу М. М. Достоевскому. Исповедальные, а порой и покаянные интонации свойственны этому рассказу. Воспоминаний о жизни в семье достаточно, но нет в них света счастливого детства, красок юношеской весны. Родителей, особенно мать, автор изображает так, как воспринимал в свою раннюю пору, и эта детская память воспроизводит картины не самые радужные. Матушку Григорьев описывает как человека неуравновешенного, словно расколотого надвое. В редкие минуты (!) она, «одаренная замечательным здравым рассудком и даже эстетическим чутьем», была приветлива, напевала что-то прекрасным контральто, имея от природы музыкальный слух; тогда её «прекрасные и тонкие черты лица» просветлялись, в ней просыпались бережливость, хозяйственность, «чувство самой строгой справедливости». Но по нескольку раз в месяц в течение двадцати лет, страдая от какой-то неведомой болезни, которая поражала всё ее существо, мать «переставала быть человеком. Даже наружность ее изменялась: глаза, в нормальное время умные и ясные, становились мутны и дики, жёлтые пятна выступали на нежном лице, появлялась на тонких губах зловещая улыбка … светлые, хорошие стороны ее личности исчезали… мать в болезненном настройстве начинала пилить, грызть и есть» и слуг, и домочадцев, и единственного сына, впечатлительного, мечтательного и ранимого Аполлошу.

Мои литературные и нравственные скитальчества. А. Григорьев.
Москва 1915 год. Книгоиздательство К.Ф. Некрасова
Отец, «странный человек во многих отношениях», по оценке Григорьева, «представлял собою тип умного дюжинного человека первоначальной карамзинской эпохи», то есть был восприимчив, легко усваивал впечатления, но имел «достаточно мало нравственной твёрдости и умственной глубины». Как в любой жизненной обстановке, так и в духовном развитии он искал прежде всего тишины, мира и спокойствия. «Отец был совсем земной, плотской человек: заоблачные стремления и заоблачный лиризм были ему совершенно непонятны», - писал о нем Григорьев.
К сожалению, в проявлении негативных чувств родители не считали нужным сдерживаться: им были свойственны приступы гнева, но проявлялись они по-разному. Аполлон, по собственному признанию, отца в такие минуты хоть и «боялся до запуганности», но знал, что завтра отходчивый батюшка и не вспомнит ни о чём. Другое дело матушка, которая «будет неумолчно и ядовито точить во всё долгое время её чая и не менее долгое же время чесанья волос моих частым гребнем, прибирая самые ужасные и оскорбительные для моей гордости слова...»
«Детство моё личное давно уже кончилось. Отрочества у меня не было, да не было, собственно, и юности», - печально повествует Григорьев. «Что-то среднее между отрочеством и юностью» он вспоминает как время, когда «голова работает как паровая машина, скачет во всю прыть к оврагам и безднам», а сердце, отравленное книжной мечтательностью, подменяет реальность «напускною жизнью»: «Точно не я это живу, а разные образы литературы во мне живут».
Экзальтированность, впечатлительность и литературная мечтательность странным образом уживались в юной душе с низменным телесным, с пороками, привитыми «распущенной, своекорыстной дворней», которую Григорьев и порицает, и оправдывает: «Грех не на них, а все-таки на крепостном праве, много развратившем высокую природу русского человека». При этом общение с дворовыми людьми дало писателю и незаменимое знание народной культуры изнутри: «Нет или мало песен народа, мне чуждых: звучавшие детскому уху, они отдались как старые знакомые в поздней молодости... Во все народные игры игрывал я с нашею дворнею на широком дворе… Все басни народного животного эпоса… переслушал я в осенние сумерки от деревенской девочки Марины, взятой из деревни собственно для забавы мне… Наезжали порою мужики из бабушкиной деревни. Вот тут-то ещё больше наслушивался я диковинных рассказов».
Отдельного внимания заслуживают воспоминания Аполлона Григорьева о доме и той части старой Москвы, с которой связано его детство. Замоскворечье с его особенным строением улиц и устройством нравов сыграло большую роль в становлении жизненных установок и даже творческих методов будущего писателя. «Воскормило меня, возлелеяло Замоскворечье. Не без намерения напираю я на этот местный факт моей личной жизни. Быть может, силе первоначальных впечатлений обязан я развязкою умственного и нравственного процесса, совершившегося со мною, поворотом к горячему благоговению перед земскою, народною жизнью».
Тогдашнюю Москву Григорьев воспринимает как «город-село», более того, как «чудовищно-фантастическое и вместе великолепно разросшееся и разметавшееся растение» с улицами-отростками. На одной из таких улиц, застроенных купеческими хоромами, стоял выбивающийся из этого ряда «мрачный и ветхий дом с мезонином, полиняло-желтого цвета, с неизбежными алебастровыми украшениями на фасаде и чуть ли даже не с какими-то зверями на плачевно-старых воротах». При этом Григорьев видит в стареющем доме, где начиналось его «сознательное детство», черты далекого славного прошлого, помогающие примириться с нынешней неприглядной наружностью строения, корни которого врастали в замоскворецкую улочку тогда, когда и в помине не было ещё наглых купеческих новостроек. Дом-то «с явными претензиями, дом с дворянской амбицией», со своей историей. Именно в его стенах произошло становление Григорьева как натуры творческой, восприимчивой, тонкой и чрезвычайно эмоциональной, способной в мечтах уноситься далеко от действительности и испытывать попеременно то «сладко-мирительное», то «болезненно-дразнящее настройство», «чуткость к фантастическому», ощущать «близость иного, странного мира...» Этот дом дал приют и университетскому товарищу, Афанасию Фету. Родители приняли его благосклонно и даже были рады, что у Аполлона появился весьма здравомыслящий и приземленный друг-наставник.
Казавшееся в юности захолустным Замоскворечье заиграет новыми красками после страстного увлечения Григорьева почвенничеством, славянофильством. В исконной русскости нашел он источник силы и вдохновения. Даже одеваться стал на мужицкий манер. Афанасий Фет в одном из рассказов характеризует григорьевское одеяние как «не существующий в народе кучерской костюм», состоящий из плотной тужурки, носимой даже «в палящий зной», и шароваров, заправленных в сапоги. Образ народника и «страстного цыганиста» дополняла гитара, с которой Григорьев никогда не расставался. Фет вспоминал, что Григорьев знал много русских и цыганских напевов, исполнял их «слабым и дрожащим голосом», но с душой: «Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностию и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пиесы».
Когда Григорьев познакомился с Александром Островским, он буквально пал перед ним на колени и попросил о дружбе, потому что в этом драматурге будто сошлось то, что всегда привлекало Григорьева и в чем он сам чувствовал недостаток: цельность, здравомыслие, сила, уверенность, воля, настоящая народность. И конечно, характеры и типы родного Замоскворечья, так точно воспроизведенные в пьесах А. Островского, покорили Григорьева своей достоверностью. Литературовед Д. Святополк-Мирский в очерке «Аполлон Григорьев» писал, что друзей «объединял безграничный кипучий восторг перед русской самобытностью и русским народом». Это способствовало тому, чтобы под влиянием Островского «ранний, смутно благородный, широкий романтизм Григорьева оформился в культ русского характера и русского духа».
Как это будет по-русски?

Аполлон Григорьев в 1846 году. Изображение: gorky.media
Русскость становится основным мотивом в литературной работе, даже в переводах европейской поэзии. К примеру, переложение баллады И. Гете «Лесной царь» в исполнении А. Григорьева сильно отличается от знакомого широкому читателю хрестоматийного перевода В. Жуковского. Может быть, его не назовешь безупречным с точки зрения ритмики, но он точно обладает особым колоритом за счет выбора лексики, сближающей этот текст с русскими сказаниями.
Кто мчится так поздно под вихрем ночным?
Это — отец с малюткой своим.
Мальчика он рукой охватил,
Крепко прижал, тепло приютил!
— Что всё личиком жмёшься, малютка, ко мне?
— Видишь, тятя, лесного царя в стороне?
Лесного царя в венке с бородой?
— Дитятко, это туман седой.
Григорьева как переводчика привлекали прежде всего те авторы, жизненная и творческая позиция которых была ему близка. В числе первых в этом ряду – Пьер-Жан Беранже. В послании М. Погодину Григорьев пишет: «Перевести Беранже считаю за notion meritoire («дело чести» - фр.), ибо это – поэт истины, поэт будущего». Привлекает Григорьева не только острая социальная тематика стихов, но и возможность подыграть автору в его попытке передать живую разговорную речь. В переводе стихотворения «Народная память», представляющего собой диалог французской бабушки с внуками о Наполеоне, как раз явлен такой пример:
Под соломенною крышей
Он в преданиях живет,
И доселе славы выше
Не знавал его народ;
И, старушку окружая
Вечерком, толпа внучат:
– Про былое нам, родная,
Расскажи! – ей говорят. –
Пусть была година злая:
Нам он люб, что нужды в том!
Да, что нужды в том!
Расскажи о нём, родная,
Расскажи о нём!
– Проезжал он здесь когда-то
С королями стран чужих,
Я была еще, внучата,
В летах очень молодых;
Поглядеть хотелось больно,
Побежала налегке;
Был он в шляпе треугольной,
В старом сером сюртуке...
В упомянутом выше письме М. Погодину в ноябре 1845 года Григорьев делится планами относительно будущих переводов: «Погодите немного, - может быть, примусь и за древних», и действительно принимается. В 1846 году появляется «Антигона» Софокла в его переводе. Он и тут не изменяет своей манере и пытается сделать греческий текст вполне русским: «Я старался строго, почти буквально держаться подлинника, но, естественно, не мог передать всех тонких оттенков эллинской речи и тем менее ощутительно представить в русской речи все изменения размера… Как опыт – удачный или нет, судить не мне, конечно, – представляю на суд моих читателей смертный плач Антигоны, в котором… старался я ввести склад русских народных песен». Действительно, плач Антигоны удивительно близок к такому русскому фольклорному жанру, как причитания, заплачки. В нем так и слышатся чисто русские интонации, где гласные словно раскачиваются вверх-вниз, произносятся протяжно, «с подвывом»:
Увы! неоплаканную, без друзей, без супруга жившую,
Ведут меня в неизбежный путь;
Никогда неба яснаго
Не увижу я, бедная.
Слёз надо мною не будут лить,
И друзья не вздохнут обо мне...
Аполлон Григорьев по праву входит в признанное литературоведами сообщество мастеров русского стихотворного перевода. Он переводил с немецкого (стихотворения Гейне, Гете и Шиллера), с французского (произведения Беранже, Гюго, Мольера и Мюссе), с английского (поэмы Байрона, пьесы Шекспира)… А. Блок, давая оценку Григорьеву как переводчику, писал: «Большинство переводов Григорьева созвучно с его душою, несмотря на то, что он часто работал по заказу: еще один признак истинного художника». Особенно нравились Блоку переводы А. Григорьева из Гейне, их он ставил выше других, созданных в XIX в. Но даже Гейне звучит совершенно по-григорьевски, то есть по-русски:
Ядовиты мои песни,
Но виной тому не я:
Это ты влила мне яду
В светлый кубок бытия.
Ядовиты мои песни,
Но виной тому не я:
Много змей ношу я в сердце -
И тебя, любовь моя.
Судьба как грустная метафора

Фото Аполлона Григорьева. Изображение: faktrus.ru
Проучившись на юридическом факультете Московского университета с 1838 по 1842 год, Григорьев юристом так и не стал, а сначала полгода заведовал университетской библиотекой, а затем исполнял должность секретаря Совета университета. В конце зимы 1844 года он переехал в Петербург, где сблизился с писателями и решил посвятить себя литературе. «Волею судеб или, лучше сказать, неодолимою жаждою жизни я перенесен в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная петербуржская литература... В этом новом мире для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; над нравственной природой моей пронеслось странное, мистическое веяние». Для такой восприимчивой натуры, как Григорьев, город на Неве стал мощнейшим потрясением, он способствовал его творческому росту, ввел в круг известных писателей и публицистов.
Критик Н. Страхов познакомил Григорьева с Достоевским. Писателей связывала общая почвенническая идеология еще до личного знакомства, и Достоевский в своих записных книжках отмечал, что сам «очень любит Григорьева», очевидно, за его открытый и честный, пусть и эксцентричный, характер. Некоторые литературоведы даже усматривают общие черты в Аполлоне Григорьеве и Мите Карамазове.
В начале 1860-х Григорьев развивается как литературный критик и создает блок материалов для журналов Достоевского. Так, журнале «Время» появились его обзорные и аналитические статьи «Народность и литература», «Западничество в русской литературе», «Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики», «Граф Л. Толстой и его сочинения», «Стихотворения Н. Некрасова», «По поводу нового издания старой вещи. Горе от ума...», «Лермонтов и его направление»; в журнале «Эпоха» были опубликованы «Парадоксы органической критики».
Согласно григорьевской теории «органической критики», литература и искусство должны органически вырастать из народной, национальной почвы. Одной из таких исконно русских органических черт Григорьев считал кротость и особенно выделял тех писателей, в творчестве которых она проявлялась в отдельных характерах. Так, у Пушкина он находил её в образе рассказчика Ивана Петровича Белкина, у Лермонтова эту «кроткую» роль играл Максим Максимыч, у Достоевского – герои его ранних произведений. К этому же ряду, несомненно, относится князь Мышкин Достоевского, но, к сожалению, Григорьев не дожил до его появления. Сам он в полной мере мог отнести себя к этому типу исконно русских, органически кротких, на чью долю выпадает немало несчастий.
Запутанные денежные дела, невоздержанность в потреблении алкоголя приводили к тому, что Григорьев терял связи, скатывался по социальной лестнице, разрушал личную жизнь и даже не раз оказывался в долговой тюрьме. Достоевский помогал ему, поддерживал финансово, давал работу, навещал в заключении. Федор Михайлович прекрасно понимал А. Григорьева, эту «вечно декламирующую душу» и так характеризовал его: «Человек он был непосредственно... почвенный, кряжевой. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура». С горечью и сожалением писатель констатировал, что литератор Аполлон Григорьев «отравил водкой источник будущей силы».
Смерть Григорьева, по воспоминаниям современников, стала тяжелым ударом для тех, кто его любил и жалел. Вспоминая проводы Григорьева в последний путь, писатель П. Боборыкин писал: «На похороны... самые бедные и бездомные, явились его приятели Достоевский, Аверкиев, Страхов, Вс. Крестовский, композитор Серов... и несколько его сожителей из долгового отделения... По дороге с Митрофаньевского кладбища мы зашли в какую-то кухмистерскую, и там состоялся обед со спичами. Говорили его приятели, говорили и "узники" дома Тарасова».
Через пятьдесят лет после смерти литератора А. Блок создает о нем статью, в которой метафорически изображает Григорьева как «единственный мост, перекинутый к нам от Грибоедова и Пушкина: шаткий, висящий над страшной пропастью интеллигентского безвременья, но единственный мост». В первых стихах Григорьева Блок уже находит те мотивы, «за которые поэзию его можно прежде всего полюбить»: «ощущение крайней натянутости мировых струн вследствие близости хаоса; переливание по жилам демонических сил», «стихийность», «звуки надтреснутой человеческой скрипки». Всё это и самому Блоку свойственно. В обилии многоточий (у Григорьева это четыре точки вместо трех) и запятых Блок видит проявление «душевной оторопи, от которой не было спасенья поэту», а минорные ноты, по его мнению, свидетельствуют о неравной борьбе «человеческих сил с теми силами, которых человеку одному не одолеть».
Среди григорьевского поэтического наследия Блок особенно выделяет «прекрасное стихотворение "Вечер душен, ветер воет" и такие единственные в своем роде перлы русской лирики, как "О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная..." и "Две гитары". Все эти три стихотворения приближаются уже каким-то образом к народному творчеству: непрерывной мелодией, отсутствием досадных спотыканий и перебоев».
Блок заканчивает свою статью «Судьба Аполлона Григорьева» еще одной говорящей метафорой, более развернутой и при этом бесконечно печальной: «Я приложил бы к описанию этой жизни картинку: сумерки; крайняя деревенская изба одним подгнившим углом уходит в землю; на смятом жнивье - худая лошадь, хвост треплется по ветру; высоко из прясла торчит конец жерди; и все это величаво и торжественно до слез: это - наше, русское». Но эту картинку стоило бы дополнить фигурой человека, поднявшего голову к небу. Жаль только, что разглядеть высокие миры ему так и не хватило времени.
Автор: Тамара Скок